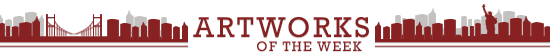|

[float=left] [/float]От администрации: [/float]От администрации:
Добра тебе, любимый остров, у Карреры очередной день жары, от которой плавятся мозги, поэтому буду краток и ленив. Если кому-то надоели дожди, то пришлите их на Кавказ, или хотя бы мало-мальский ветер. А у нас на острове тоже горячо, манхэттеновские ленивцы бодро справляются с заданиями, что администрация лагеря готова к выписыванию поощрений. На полдник каждому припасем конфетку, то бишь навесим дополнительные занятия, все, как лагерный доктор прописал. Спасибо за скорость и находчивость, если вы еще и реал-зону почаще использовать будете при выполнениях - цены вам не будет.
Перейдем к тому, что еще происходит на Манхэттене, несмотря на летние месяцы, мы стараемся выжать из вас последние капли вдохновения.
Жду историй по музыкальному конкурсу, прямо очень жду.
Мы подводим итоги опроса кинообразов, кто не успел высказаться - велкам.
Голосуем за лучшие игры месяца, если какая-то из игр особо зацепила - черкните пару строк игрокам, это всегда приятно.
Тотализатор ждет новых лотов, надо и самому туда дойти.
Играем, творим, пишем общаки, закрываем личные эпизоды - я сегодня просто гений-мотиватор.
Перейдем лучше к постописцу недели и красавице, комсомолке и просто талантливому человеку. Мэдисон, есть игры на Манхэттене, обновления которых я жду. Этот флешбек - одна из них, он вышел действительно потрясающим, и пусть ты всегда пишешь так, что можно тяжело вздыхать над: "когда я буду настолько выверять каждое слово в своих постах, а не набирать что-то впопыхах и не проверяя", пусть каждый твой пост - отдельно прожитая история, но я испытываю слабость именно к этой игре. Пусть она закончится ярко, пусть на Манхэттене еще будет завершен десяток прекрасных историй, спасибо, что ты с нами уже значительный срок, такой, что наш, коренной, родненький житель. Мы тебя любим, Каррера шлет отдельные обожашки, и вообще, однажды надо что-то заиграть. Когда мы оба выйдем из образа слоу, и ты настолько сойдешь с ума, что этого захочешь. Поздравляю с лучшим постом и крепко тискаю, пока твоя мама не видит.

Мэдисон и её игра с жизнью Ночью, как только на смену кошмарам, порождаемым реальностью, приходят кошмары из темноты самых глубоких пропастей ее разума, Эмбер пытается сосчитать, много ли дней прошло с того момента, как кто-то (во мраке перед ней - только лицо-сердечко и неестественно желтые волосы) запустил некий незримый маятник, и мир, до этого бывший столь малоподвижным, неподатливым - пластиковым, будто домик для кукол из ее далекого детства - пришел вдруг в движение, приобретая никак не связанную с законами физики скорость - и разрушительную силу. Она не знает ничего о шкалах разрушения, ее не интересует, сколько людей ежегодно гибнет от цунами или землетрясений, но все же, существуй где-то на свете система, позволяющая измерить вред, причиненный вмешательством одного человека в жизнь другого, ее, безусловно, изобрела бы Эмбер. Согласно этой шкале - шкале Бейли, вот как она бы называлась - ее сознание, медленно уплывающее прочь от покрытой вечерним сумраком спальни, разрушено настолько, что единственные уцелевшие в нем вещи от полного исчезновения отделяет лишь железная, почти нездоровая воля к жизни - да еще, пожалуй, ненависть к тому, что сокрылось слоем ниже бодрствования и напускного спокойствия. Эмбер подсчитывает минувшие с момента их знакомства дни, перелистывает страницы некоего невидимого, значительно поредевшего календаря, хаотично отсчитывающего дни «до» и дни «после», не потому, что ей необходимо убедиться, что все это действительно произошло именно с ней, и она не проснется после очередного числа с пониманием того, что все закончилось. Во сне, в том странном, тревожном подобии настоящего отдыха, что заставляет ее тело цепенеть, а мозг - лихорадочно биться о тесную кромку черепной коробки, воспроизводя картинки, покрывшие поверхность календаря ее жизни липкими следами, похожими на засохший ягодный сироп, Эмбер Бейли кажется, что между чисел, отметивших хронологию последних событий, лежит некий сакральный смысл, ответ на вопрос о том, много ли еще дней должно пройти, прежде чем ее кошмары превратятся в туман и исчезнут окончательно. Она знает, что рано или поздно это произойдет; она зрит свою победу так же явственно, как если бы Мэдисон Монтгомери сама сняла со своей головы лавровый венец и передала его Эмбер в знак (нет, не равенства, небеса милостивы, и между ними никогда не будет стоять знак подобия) поражения. Но ощущение конечности все не приходит. Под пальцами правой руки - всего лишь несколько страниц, отделяющих книгу от окончания - но она все еще не думает, что может угадать ее финал, и яростно желает подсмотреть. Что ж, возможно, все дело в том, что Эмбер никогда не любила читать. Единственный рукописный образ, плотно засевший в ее сознании - она занозила о него мозг - это темные, цвета густого гречишного меда глаза, глухо мерцающие в этой своей светящейся белой раме, испещренной прожилками капилляров. Он ненавистен ей - но и изгнать его из своих снов она не в силах. Это он - тот знак, по которому Эмбер отсчитывает дни с начала и до конца своего затянувшегося спектакля; это он - та путеводная звезда, та нить, которая рано или поздно выведет ее на поверхность. В глазах Мэдисон Монтгомери - в этих темных, похожих на неглубокие грязные лужи глазах - есть ответ, который Эмбер жаждет с такой силой, будто в действительности сможет понять его смысл. Говорят, подобные чувства - ощущение близости к некой разгадке, разрешению тяжелых душевных мук - ощущает верующий, вглядывающийся в темные, исполненные нежным страданием глаза Божьей Матери. Разница одна: Мэдисон Монтгомери меньше всего похожа на невинную Деву.
Ночь приносит с собой тревожные видения, похожие на обрывки темно-красного тумана. Они окружают Эмбер, как и много ночей до этого, и пускают течение ее бесконтрольных мыслей прочь от предчувствий победы и сладости нового дня. Похожая на леденец пилюля, которую она сама скормила себе во излечение от этого краткого безумия, тает на языке смрадом разложения; календарь, который она судорожно листает, оканчивается, едва успев начаться. Во снах Эмбер не слишком много смысла; чего в них много, так это страха - и безыскусных, не имеющих ни четких границ, ни формы фантазий. Она плавает в них, словно в густом киселе, полном мякоти давно ушедших в прошлое мыслей и надежд; она лежит на самой его поверхности без возможности разглядеть свет, и над ней - над ее алчной жаждой жизни и упрямым стремлением к новому дню - медленно проносится вытканное неизвестными созвездиями покрывало ночи, длинной и полной чудовищных снов. Но, вопреки обыкновению, просыпается Эмбер не от кошмара. Когда часы, стоящие на столике рядом с ее кроватью, показывают девять утра - новый день все-таки наступил, как и было заведено - ее будит громкий стук в дверь комнаты, и она подскакивает на сбившихся в куль простынях и накиданных одна на другую подушках: всклокоченная, переполненная ужасом принцесса, вынужденная годами спать на горохе. Если и задумывалась в сценарии, который Мэдисон почему-то так и не удосужилась вручить Эмбер, точка, ведущая к кульминации, то это, безусловно, была именно она: момент, знаменующий величайшее напряжение, приводящий весь зрительный зал (в количестве одного, не считая самого сценариста, человека) в притворный, театральный ужас. Эмбер с трудом припоминает, как давно она видела кого-то из родителей дольше, чем в течении десяти минут, и это, будем честны, дается ей куда легче, чем попытка вспомнить, какой сегодня день недели. Запоздало, все еще чувствуя вокруг головы пуховые тиски сна, она думает о том, что мгновения последних недель слились у нее перед глазами в даты получаемых и отправляемых сообщений - единственной вещи, державшей ее на плаву прямо над полным русалочьего пения омутом. Она без труда может пересказать, с какой периодичностью они приходили на ее электронный адрес, при этом пребывая в полнейшей неосведомленности о том, что происходило вне их кратких проблесков - и за пределами выстроенной вокруг нее арены.
Дверь в комнату Эмбер открывается мгновением после установленного негласными семейными правилами стука, и та, сотрясаемая судорогами уходящего в остывающую ночь сна, буквально вываливается из кровати, путаясь в одеяле и простыни, обвившей ее ноги подобно белой шелковой змее. В дверном проеме показывается Мама - один из призраков прошлой жизни, бледный, сурово насупивший гладкий золотистый лоб в попытке скрыть непонимание и тревогу - недовольством и строгостью. Ее губы, еще не подведенные дорогой розоватой помадой, изгибаются в выражении странной брезгливости, а глаза, скрытые от Эмбер тенью двери, наверняка до сих пор хранят отпечаток того самого удивления, что появилось в них, когда входная дверь впустила гостя, еще никогда не тревожившего своим присутствием святыню этого дома. Когда Мама начинает говорить, Эмбер кажется, что один из мучивших ее по ночам кошмаров наконец сбылся: она представляет себе, что этажом ниже, за преградой скользких, высоких ступеней, которую ей придется преодолеть, стоит Мэдисон Монтгомери - чума, проникшая даже сюда - и улыбается в ожидании представления, словно чудовище, питающееся ее страданиями.
- Эм, детка, будь добра спуститься. Сейчас же.
На мгновение свет, падающий из окна ее комнаты, касается лица матери, и Эмбер видит ее глаза: нечитаемые, кукольные, похожие на большие пуговицы, удивленно отражающие солнце своей глянцевитой поверхностью. Едва ли это может испугать ее сильнее, чем глаза Мэдисон Монтгомери, образ которых, казалось, прилип к ее собственным глазам изнутри, сделал их темнее, грязнее - отравил, словно вирус, поражающий зрительный нерв некой страшной болезнью - но все же... все же Эмбер пугается. Не самих глаз, нет - но того, что на мгновение превратило их взгляд в до боли знакомый ей с детства, полный, словно загадочная карта, давным-давно расшифрованных выражений. Эмбер встает, накидывает на плечи халат и, словно все еще погруженная в глубокий сон, выходит следом за матерью, судорожно цепляясь за ее руку, пока ступени (смешно - но она даже не поняла, что идет по лестнице) не перетекают в гладкий, устойчивый пол.
Гостиная, в которой она не раз сидела, пытаясь найти силы подняться в свою комнату, залита утренним светом: он, еще слишком холодный, чтобы кого-нибудь согреть, лежит на столике, ковре, диване и креслах, на стенах, увешанных фотографиями, картинами и полками, словно принесенные ударной волной куски человеческой плоти, кровоточащие желтоватыми лучами и дрожащие витающими в воздухами пылинками. Отец, чьи руки, кажется, скрещены на груди в знакомом защитном жесте, сидит в одном из кресел; Эмбер видит его макушку, седые, редкие волосы на ней и вывернутые, смугловатые кончики ушей, похожие на раковины неизвестного, не существующего в природе моллюска. Она видит, как он движется, и слышит его голос, но шум, возникший в ее голове, стоило только шагнуть за порог с детства знакомой комнаты, оглушает Эмбер, и она различает лишь глухое, монотонное гудение насыщенного всеобщим непониманием воздуха. Он такой густой, что она почти кожей чувствует его сопротивление. Рука Мамы придерживает ее за локоть цепко и сухо, как бывало иногда годами ранее, когда Эмбер ненадолго становилась таким же, как и миллионы ей подобных, ребенком, сотворившим шалость и вынужденным столкнуться с родительским недовольством. Однако сейчас все воспринимается - происходит - иначе. Она не разбила любимую мамину вазу; не изрисовала важные документы отца; не разрыдалась посреди улицы, требуя купить мороженое. С трудом вынуждая себя двигаться, Эмбер проходит вглубь гостиной, садится в одно из кресел - напротив Отца - и заставляет себя посмотреть на диван, скорее интуитивно ощущая, чем понимая умом, что это действительно стоит сделать. Там, разложив рядом с собой и на дизайнерском столике фотографии, сидит человек в форме. На несколько долгих, мучительно долгих секунд взгляд Эмбер как бы прирастает к нему, и она не сразу догадывается ответить на приветствие, сухими дымными струйками просочившееся сквозь губы офицера, стоило ей сесть рядом с ним. Вид его невыносим, потому что Эмбер знает, сколь далека причина его визита от тех, что хотела бы услышать она сама. Поэтому она переводит взгляд на родителей, ощущая, как шум их мыслей проходит сквозь нее, выталкивает на поверхность бушующего моря лишь затем, чтобы окунуть в убийственно холодную серую стынь этого утра. Мама подошла к креслу, в котором сидел Отец; теперь она стоит рядом с ним, не касаясь, хотя память подсказывает Эмбер сотни, тысячи примеров, когда она подходила к нему, сидящему на том же самом месте, чтобы обвить его плечи своими холеными золотистыми руками или игриво погладить по голове. Сейчас эти руки, неуклюже свернутые на груди в том же жесте, что и руки Отца, напоминают безвольные, лишенные костей и мяса плети, сплетенные замысловатым узлом. Эмбер смотрит на них, будучи уже почти у самой поверхности тишины, готовясь вынырнуть и встретиться с тем, что принес в их дом офицер полиции, и думает...
Она смотрит на них и думает о том, как выглядят родители Мэдисон Монтгомери, и есть ли они у нее вообще, или вся ее жизнь - очередная выдумка, так тщательно скроенная и сшитая, что об этом никто не догадывался годами. Она не может представить себе, что за люди породили существо, сделавшее с ней это, причинившее ей столько зла. Кто они? Как выглядят? Способна ли их дочь представить обнадеживающую семейную близость, искры любви, пронизывающие воздух между ее родителями? Эмбер никогда не видела матери Мэдисон вживую, хотя знала, что та, по глубокому убеждению всех учителей, существует и даже работает кем-то вроде ученого - но ни разу не слышала об ее отце. Что он за человек? Вопреки тому, что она ничего о нем не знает, Эмбер испытывает к отцу Мэдисон сильную иррациональную ненависть. Даже не догадываясь, правдивы ли ее чувства, Эмбер решает, что глаза Монтгомери просто не могут быть глазами женщины, родившей ее, и мысль о том, каким жестоким, безумным должен быть мужчина, вшивший две мертвые пуговицы в глазницы собственного ребенка, заставляет ее испытать ужас. Даже сейчас, сидя в гостиной рядом с фотографиями, на которые не может посмотреть, Эмбер думает о Мэдисон Монтгомери и о том, что она сделала и что сделает еще; думает об ее семье, о людях, несомненно, виновных в том, что с ней, Эмбер Бейли, случилось ничуть не меньше их дочери, и о том, как сильно она ненавидит каждого из них. Мир был бы справедлив, если б Мэдисон действительно была чудовищем: големом, слепленным из глины и грязи и двигающимся по воле чьего-то злого умысла. Последней свободной мыслью Эмбер на сегодня становится осознание того, что Мэдисон - человек вроде нее, Мелиссы и Тома, и это ничуть ее не утешает.
- Эмбер! - окрик заставляет ее вздрогнуть, выталкивает на поверхность, прямо к запахам смрада и невыносимому, могильному холоду. Она смаргивает картины семейной жизни Мэдисон Монтгомери и с милой улыбкой оборачивается к офицеру.
- Простите, я еще не до конца проснулась, - говорит она, стискивая пальцами край своего халата.
- Эмбер, офицер хочет задать тебе несколько вопросов,- сквозь силу, явно все еще не веря в то, что произносит эти слова, сказал Отец. Сколько ни бейся, сейчас Эмбер, кажется, не смогла бы вспомнить его имя. Он стал для нее лишь одной из фигур, приведших ее в этот мир и не озаботившихся тем, что может ее в нем ждать. Эмбер все еще любит его, как и Маму - но что-то глубоко в ней, вирус, принесенный Мэдисон, заставляет ее вменять им в вину все, что произошло с ней, так же, как и самой Монтгомери, и ее собственным родителям.
- Не волнуйся, Эмбер, - ободряюще, но все еще сухо. Это офицер. Эмбер кивает, соглашаясь с тем, что волноваться больше уже просто не сумеет. Он указывает на стол и несколько лежащих там фотографий, утопленных в свету, но все еще нисколько не привлекательных. - Ты ведь знакома с Мелиссой Франклин?
Эмбер пожимает плечами:
- Да. Мы с ней дружили… дружим, в общем-то. Мы лучшие подруги с начальной школы. В чем дело?
Офицер вновь показывает на снимки, но Эмбер не делает ни малейшего движения, чтобы их увидеть. Она смотрит на родителей, на их перекошенные лица, и не находит в себе сил сдвинуться с места; последнее, чего она хочет - это чтобы в ее кошмарах, помимо Мэдисон и других ее жертв, появилась еще и Мелисса.
- Вчера на нее было совершено нападение.
Бог мой.
- Кто-то выплеснул ей в лицо серную кислоту, накануне украденную из кабинета биологии в вашей школе.
Помоги мне.
- У нее повреждены глаза, но она…
Ибо я слаба.
-…говорит, что виновата ты. Мы должны провести…
Эмбер вновь ныряет в белый шум, чувствуя, как звуки в комнате возносятся куда-то к потолку и оттуда обрушиваются на ее голову, мучительным усилием отправляя обратно на поверхность.
- Это безумие! - восклицает она, - Да, мы с ней повздорили, но неужели вы думаете, что я могла…
Офицер смотрит на нее с равнодушием человека, уставшего раз за разом выслушивать одно и то же, убежденного в чем-то, недоступном пониманию самой Эмбер. Он складывает фотографии, на которых изображено обезображенное лицо Мелиссы, обратно в конверт; бумага шуршит, заглушая шум, заливающий все остальные звуки, но, когда полицейский заговаривает вновь, Эмбер слышит его так отчетливо, словно в комнате есть только они:
- Нам нужно это сделать, Эмбер. Возможно, там твои отпечатки.
* * *
Эмбер сидит на крыше мира, чувствуя, как ветер подхватывает и дергает ее волосы; холодный, похожий на прикосновение к ледяному кубику ветер, разрезанный на краткие, лоскутные порывы - ни следа весны. Сейчас она уже не верит в то, что календарь из ее снов хранит ответ хотя бы на один из вопросов. Она сидит прямо на полу, привалившись спиной к холодному жестяному бортику, отделяющему ее от пропасти, и бездумно вчитывается в то, что успела написать и о чем нажаловалась после того, как разместила тот злосчастный пост в своем дневнике. Рядом с ней сидит призрак Мэдисон Монтгомери. Это из-за нее перевелась Мэнди Франк, а парень из соседнего класса в прошлом году сиганул с крыши многоэтажки.
Эмбер пытается вспомнить, кто такая Мэнди Франк, но перед глазами появляется лишь кратчайшая вспышка, несущая в себе яркость ее рыжих волос и дрожь тоненьких детских пальчиков. Глядя на те глупые, несуразно циничные слова, которые она написала не столь давно, Эмбер Бейли вспоминает, что та девочка все еще жива, и отчаянно хочет узнать, как ей удается жить дальше после всего, что произошло. На какое-то краткое, кажущееся почти иллюзорным мгновение она чувствует, что может вздохнуть полной грудью: хочет найти Мэнди на Фейсбуке или где-нибудь еще, чтобы попросить о помощи, но затем нечто - какая-то липкая, тяжелая паутина - сдавливает ее тело и заставляет открыть последнее, недельной давности письмо, присланное накануне всех тех событий, что пронеслись после злосчастного утра. Эмбер сама себе напоминает наркомана, вспомнившего о дозе только тогда, когда появилось желание бросить. Она прочитывает письмо, захлебываясь сухими рыданиями, и тут же открывает окно ответа, не чувствуя, что в силах отказаться даже от такой малости.
читать продолжение - nobody cares

|







 [/float]
[/float]

 [/float]
[/float]









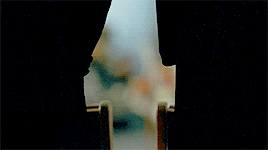
 [/float]
[/float]


 [/float] Как было сказано в одном из моих любимых сериалов: "Все паршиво... но нужно иногда находить повод для улыбки!" Начало лета со своей изменчивой погодой, как капризная дама, дарит нам иногда или сильную жару или проливной дождь или легкую усталость, потому что хочется уже отдыхать и не один месяц, а все три, но у кого-то работа, у кого-то учеба, и все это сказывается на повышенной занятости и желанием отвлечься и отдохнуть, а не зависать в фотошопе. Неделя выдалась не особо урожайной, но это не значит, что уж совсем нечего показать. Все больше преобладает ярких красок в работах и изредка совсем уже тленные или мрачные, как у вашего покорного слуги. Внезапное прибавление в творческом кружке не может не радовать глаз своими работами.
[/float] Как было сказано в одном из моих любимых сериалов: "Все паршиво... но нужно иногда находить повод для улыбки!" Начало лета со своей изменчивой погодой, как капризная дама, дарит нам иногда или сильную жару или проливной дождь или легкую усталость, потому что хочется уже отдыхать и не один месяц, а все три, но у кого-то работа, у кого-то учеба, и все это сказывается на повышенной занятости и желанием отвлечься и отдохнуть, а не зависать в фотошопе. Неделя выдалась не особо урожайной, но это не значит, что уж совсем нечего показать. Все больше преобладает ярких красок в работах и изредка совсем уже тленные или мрачные, как у вашего покорного слуги. Внезапное прибавление в творческом кружке не может не радовать глаз своими работами.









 --
--
















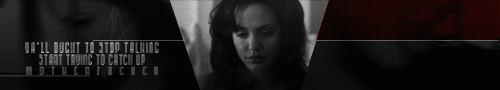













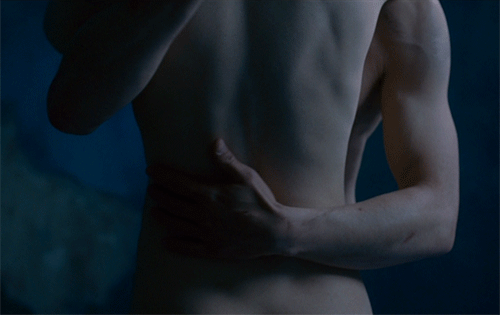
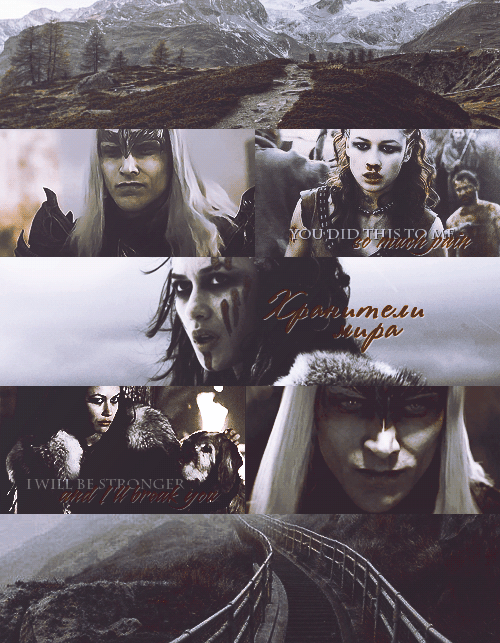















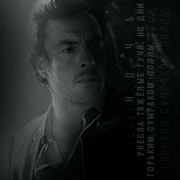















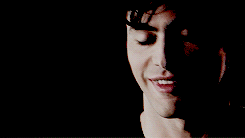




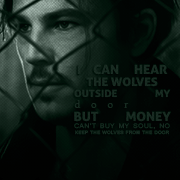
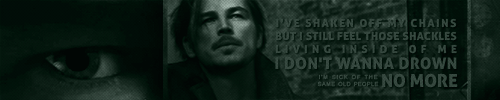




























 =
= 
 =
= 
 =
= 


















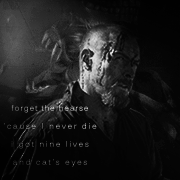

 =
=
 =
=






 =
= 
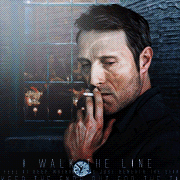

 =
= 










 Хочется таких же ярких, атмосферных работ как у Мел, научиться манипулировать со светом, как это делают Деми и Зейн, научится создавать истории как это делают Люк, Хайди, Джемма. Еще я не смогла остаться равнодушной к видео работам Дейны, и в тайне я мечтаю овладеть этой тайной техникой. А еще...эта мрачная красота в исполнении Арчи, так и тянут меня признаться ему в фотошопной любви* Кстати, к нему я обращалась чтобы разобраться с анимацией и получила от него огромнейшую помощь, за что ему самые низкие поклоны!
Хочется таких же ярких, атмосферных работ как у Мел, научиться манипулировать со светом, как это делают Деми и Зейн, научится создавать истории как это делают Люк, Хайди, Джемма. Еще я не смогла остаться равнодушной к видео работам Дейны, и в тайне я мечтаю овладеть этой тайной техникой. А еще...эта мрачная красота в исполнении Арчи, так и тянут меня признаться ему в фотошопной любви* Кстати, к нему я обращалась чтобы разобраться с анимацией и получила от него огромнейшую помощь, за что ему самые низкие поклоны!
 =
= 
 =
= 

 Не останавливаться на достигнутом, удивлять своим видением этого мира. Как сказал один человек (в Фейсбуке увидела у одного мальчика) "Мы рисуем так как видим этот мир". С помощью кистей, слоев, текстур мы выражаем свои чувства и эмоции! Желаю, чтобы Вас никогда не покидало это видение мира!
Не останавливаться на достигнутом, удивлять своим видением этого мира. Как сказал один человек (в Фейсбуке увидела у одного мальчика) "Мы рисуем так как видим этот мир". С помощью кистей, слоев, текстур мы выражаем свои чувства и эмоции! Желаю, чтобы Вас никогда не покидало это видение мира!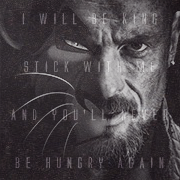 =
= 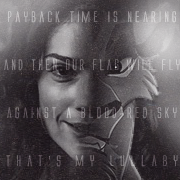
 =
= 
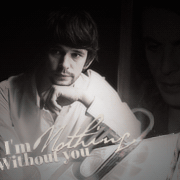

 =
= 












 +
+

 +
+ 
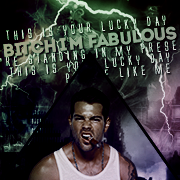 =
= 

 =
= 

 =
= 


 =
= 




 [/float]
[/float] [/float]
[/float]








 =
= 

 =
= 

 =
= 
 =
= 
 =
=


 =
= 




 [/float]
[/float] [/float]
[/float]















 =
= 



 =
= 







 =
= 
 =
= 
 =
= 
 =
= 
 =
=